Михаил Кацнельсон
Точкой отсчета во всех его суждениях была война
Часть 2
В 1986 году, как всем известно, случился Чернобыль, и Спартаку, как, впрочем, и всем остальным, стало не до наших планов. Мы, тем временем, продолжали заниматься наукой (хотя год, в этом отношении, был неурожайный – зато в 1987 году у нас случился прорыв, о котором я уже упоминал). В самом конце 1986 года была открыта высокотемпературная сверхпроводимость (ВТСП), и начался пресловутый «бум». Я не знаю, то ли Гинзбург, Каган и другие энтузиасты были искренни в своей вере – грядет технологическая революция, все теперь будет сверхпроводящим, поезда на магнитных подушках будут бороздить просторы Большого Театра, и т.д., и т.п., то ли просто воспользовались случаем урвать у властей денег на науку, но эффект их пропагандистских усилий превзошел все ожидания. Была создана специальная комиссия Политбюро во главе с Рыжковым, тогда вторым человеком в стране. Над физиками пролился золотой дождь (возможные неприличные ассоциации тут отчасти запланированы). Появилось море персональных компьютеров (до этого мы их в глаза не видели). Люди играли в «Диггера», «Эйфорию» и расчеты электронной структуры высокотемпературных сверхпроводников. За это платили. Много.
Люди умудрялись за год печатать до сорока статей в год в некогда священных «Письмах ЖЭТФ», лишь бы про ВТСП, с понятными последствиями для репутации журнала. Закрывались перспективные и, главное, оригинальные научные направления ради воспроизведения, с ухудшенным качеством, третьесортных американских и японских работ. Как тут не вспомнить Тимофеева-Ресовского – «не нужно тратить силы на то, что все равно сделают немцы». Мы и вспомнили. Продолжали гнуть свою политическую линию, насчет перспективных направлений, предостерегали против увлечения ВТСП, и в результате полностью вышли из доверия у начальства (не у Спартака, разумеется, тот все понимал). Трудно переть против рожна. В научном смысле, присматривались к ВТСП (интересная же физическая проблема, на самом деле, если не сходить с ума, а нормально работать), пытаясь найти какой-то угол зрения, под которым еще не успели посмотреть «немцы». И нашли – связь ВТСП с сегнетоэлектричеством. К сожалению, этот выбор направления оказался неудачным. Какая-то вялая деятельность в этом направлении продолжается до сих пор, с переменным успехом. Модель, которую мы предложили с Сашей, была красивая и, несомненно, имела право на существование, но вот реализуется ли она на данном листе Мультиверса – сказать мог только эксперимент, с которым было чем дальше тем непонятнее. «Серая наука», огромная область между подтвержденным и опровергнутым, царство Неуловимого Ковбоя Джо.
В мае 1988 года в Киеве состоялась огромная международная конференция по физике конденсированного состояния, наверно, первая с действительно массовым участием ведущих иностранных физиков. Практически вся советская научная молодежь на этой конференции перезнакомилась со своими будущими работодателями, а потом, в течение года, к ним и свалила. В 1989 году уехал в Штутгарт Лихт, мой самый близкий друг, наряду с Сашей. Вообще, из всех, кто в конце 1988 года получал нашу премию Ленинского Комсомола (шестеро), в начале 1990го в России оставался я один.
В Киев мы с Сашей влюбились. Ездили туда каждый год в мае, до 1991 года включительно. Подумывали даже о том, чтобы переехать обоим в Киев насовсем, тем более, вопрос с моим переездом в Москву окончательно застопорился, но все-таки не слишком всерьез. В принципе, если бы захотели, это, наверно, можно было бы организовать. В последний приезд (это было конференция в Институте теоретической физики, жили за городом, в Феофании), в последний день чуть-чуть не успели в Софийский собор – закрылся под самым носом. И больше никогда в Киеве не были. «Каждый человек может объявить перерыв, но никто не может знать, когда это перерыв закончится» – сказано в Книгах Боконона.
А до этого было как-то недосуг, находились другие интересные места. Помню целый день, проведенный в Киевском зоопарке, с сумкой, набитой (исходно) пивом. Туалет было легко найти, используя видимых издали жирафов как ориентир.
Отношения Саши с наукой были, мягко говоря – непростыми, а, пожалуй что, и трагическими. В молодости, еще до нашего с ним знакомства, он работал почти круглосуточно – что, насколько понимаю, было одной из главных причин, разрушивших его первую семью. В мое время такого фанатизма уже не было, но работал он, пока был здоров, много. Для него, как и для его учителя Вакса, было азбучной истиной – восемьдесят процентов времени и сил у научного работника уходит на воспроизведение того, что сделано раньше. «Ну, конечно, если ничего не проверять, гораздо больше опубликовать можно». Как правило, оказывалось, что предшественники были менее тщательны, и в их работах находились ошибки. «Как всегда – все сделано, и все неправильно». По известной классификации Дайсона, и Вакс, и Саша были типичными «лягушками». После того, как они брались за задачу, другим в ней делать было уже нечего, все проутюживалось, как танковой колонной. А Саше хотелось летать. Видимо, именно это его во мне привлекало – я был хоть плохонькой, но несомненной птицей.
Наш опыт показывает – птице гораздо проще научиться лягушачьим методам работы, чем лягушке – птичьим. В научном отношении я, несомненно, взял от Саши гораздо больше, чем он от меня.
Но трагедия была не в этом. Трагедия, как у любого сильного человека, в том, чтобы наступать на горло собственной песне. Саша был прирожденным лидером. Политиком, администратором, военным. Его суждения по науке были интересны, его суждения об устройстве общества и человеческих отношениях гениальны (причем, это была гениальность именно практика, а не мыслителя). Как-то он сказал, как-бы-в-шутку, что мы созданы для большой войны (себе он при этом отводил роль командующего, мне – начальника штаба). Но при этом любую административную деятельность считал недостойной, и страстно хотел быть «только ученым».
При позднем застое это, вероятно, было отношение типа «зелен виноград». «Наше поколение сгноили» – часто говорил Саша. И рассказывал истории из серии «геронтократия на марше» <…>
С началом перестройки, люди вокруг стали расти как на дрожжах <…> Сашу Трефилова тоже постоянно куда-то продвигали (его политико-административные дарования были очевидны), он упорно от всего отказывался. Помню, как он рассказывал мне, что только что отказался от должности замдиректора Курчатника (мы выпивали из горла под железнодорожной насыпью, в один из его приездов в Свердловск). Я спросил – почему. Он ответил – нужно полностью менять образ жизни, так вот уже с тобой не выпьешь.
Здесь, видимо, правильное место, чтобы подвести какие-то итоги научной деятельности Саши (начиная с 1992 года, наука, в узком смысле слова, перестала быть главной в нашем с ним общении, дальше речь пойдет уже о другом – книги, образование, взявшая все-таки свое политика).
Они с Ваксом взялись за приложение теории псевдопотенциалов к щелочным металлам и закрыли область, осталось только подчищать хвосты (какое-то время в этой подчистке участвовал и я). На самом деле, Саша сделал расчеты для всей таблицы Менделеева, но только для щелочных металлов получилось хорошо. Потом, уже вместе, мы преуспели с щелочноземельными металлами и, как ни странно, с переходными металлами иридием и родием, но, по отношению к работам Вакса и Саши конца 70х эти наши работы очевидно вторичны.
Сейчас эта теория (основанная на эмпирических псевдопотенциалах и теории возмущений) мертва, потому что появились куда более мощные в вычислительном отношении методы. Никто ей больше не пользуется и не интересуется. Что осталось? Я думаю, в первую очередь – работы Вакса с Сашей по ангармоническим эффектам, и во вторую – их работы по теории жидкости. Это – типично «лягушачьи» работы, ворох графиков и таблиц, но любая будущая теория будет основываться на них.
Еще более важны работы Вакса с Сашей по упоминавшимся уже электронным топологическим переходам. И.М.Лифшиц, предсказавший (в 1960) это явление, думал, что его нельзя наблюдать в сплавах (из-за размытия поверхности Ферми), и предлагал очень вычурные и непрактичные методы экспериментального исследования для переходов в чистых металлах под давлением. По этой причине, вся область рассматривалась как маргинальная. После того, как Саша с Ваксом предсказали (в 1983) резкие аномалии в термоэдс сплава литий-магний (термоэдс очень просто и удобно мерять) и это предсказание было подтверждено экспериментально, область на какое-то время ожила. Советская наука была тогда сильно изолирована от мировой, и оживление ограничилось, главным образом, Москвой и Московской областью, но, право слово, в то время это было немало.
В развитии этой ЭТПшной тематики я принял существенное участие. Нам с Сашей принадлежит, kind of, теорема, что в неодноосных металлах вблизи ЭТП коэффициент теплового расширения при низких температурах имеет разные знаки вдоль разных осей (подтверждено экспериментально в чистом титане – эту работу Саша особенно ценил).
Еще более важно, мы с Сашей, в развитие их работ с Ваксом, решили многолетнюю «проблему Юма-Розери» – объяснение эмпирической корреляции между электронными свойствами сплавов и их структурным состоянием. На момент решения, эта проблема уже мало кого интересовала, и никто особо и не заметил, что она – надо же – прояснилась до конца, но сам я этими работами горжусь до сих пор.
То, что Саша сделал совместно со мной, вероятно, важнее того, что он сделал с Ваксом, но итоги тут лучше подводить не мне и не сейчас. Пока я жив, не исключены еще (будем надеяться) существенные продвижения в этих направлениях. В данный момент, научная конъюнктура такова, что на мою научную репутацию существование этих работ почти не влияет. Думаю, они сильно недооценены.
Разные случаи и мелкие истории из восьмидесятых, в произвольном порядке по хронологии и значимости, как вспоминается.
Сектор (в Курчатнике) находился на третьем этаже здания поликлиники, но через поликлинику ходить было нельзя, нужно было подниматься по специальной узкой железной лестнице, напоминавшей подводную лодку, которую, впрочем, на самом деле помнить я не мог, потому что никогда в ней, слава Богу, не был. Там появлялись время от времени для стажировки различные персонажи с просторов нашей, тогда необъятной, родины. Одним из них был я, и задержался на двадцать лет. Обычно такие визитеры исчезали существенно раньше.
Как-то приехала учиться у Вакса девушка из Узбекистана с большой дыней (не поймите превратно, действительно привезла дыню в подарок), и мне пришлось ее встречать на проходной и провожать до места. Как истинная восточная женщина, она не шла, а семенила, а я описывал вокруг нее большие круги, как впоследствии делал пес главного редактора «Троицкого варианта» вокруг нас с главным редактором, когда мы все вместе переплывали Оку. Программы, которые мы тогда с Сашей писали, получили в честь гостьи названия ZUXRA и ZULFIA.
По выходным в Секторе было пусто и тихо (если не считать меня и еще одного человека) <…> За окнами раздавались редкие выстрелы. Отстреливали собак, которых развелось на Территории великое множество, так что они нападали на ослабевших и отставших от стада сотрудников. Так как проходная была, видимо, собаконепроницаемой, речь идет о потомках тех самых собак, которые еще в сороковых ковали в этом месте ядерный щит Родины под руководством И.В.Курчатова. Неблагодарная Родина отплатила стрельбой, ей было не впервой.
Считалось особым шиком выносить нелегально через проходную всякую ненужную литературу (я неоднократно протаскивал на тощем тогда брюхе докторскую диссертацию Бровмана, без особой практической необходимости). Как-то Саша предложил мне на «слабо» пронести большой свинцовый кирпич, который использовался в Секторе для важных ядернофизических целей (им подпирали приоткрытое окно). Я сказал «Поговори мне еще», и под Сашей тут же развалилось кресло.
В качестве примера обратного использования парапсихологических способностей расскажу истинную историю первого матча Карпов-Каспаров. Саша в шахматы не играл (я в то время был действующим кандидатом в мастера и активным шахматным болельщиком), но интересовался. Когда при счете 5:0 в пользу Карпова он проиграл, одну за другой, три партии, Саша сказал: Ну, все, очевидно – посыпался. Я говорю: Да нет, Карпову нужно выиграть всего одну партию, конечно, выиграет. Саша: Спорим на бутылку, что следующим чемпионом мира будет Каспаров. Я: Я не могу с тобой спорить. Знаешь же – когда двое спорят, один дурак (который не знает, о чем спорит), другой подлец (тот, кто знает, и пользуется дурью первого), не хочу быть в роли подлеца. Саша: спорим на бутылку. Я: такое нужно наказывать, спорим. Саша: На любую бутылку, по выбору выигравшего. Я: сам напрашиваешься. Поспорили. А дальше – Кампоманес, Шмампоманес, матч прерван, результаты аннулированы, следующий матч через год, Каспаров чемпион мира, я покупаю бутылку выбранного Сашей коньяку.
Смотрим по телевизору «Алые паруса» с Лановым. Я: Давай переключим, бесит. Саша: Смотри, смотри, надоело сплошное солдафонство. Постоянно включенное на Сашиной кухне (где мы работали) радио. Меня раздражало, Саша без этого фона не мог.
Рассказы о походах. Саша в молодости занимался водным туризмом, и неводным тоже. Особенно любил рассказывать о походах по Приполярному Уралу. В студенческие времена – стройотряды на Севере. Для него эти воспоминания, видимо, были важны, но у меня в памяти почти ничего из его рассказов не осталось.
Гостиница Курчатника на Народном Ополчении. Мне скоро уезжать, пьем таджикский портвейн «Памир». Я рассказываю, уже забыл, по какому поводу, про дедушку, маминого папу, что учился еще до революции в Швейцарии, всю странную и жуткую историю маминой семьи. Саша жадно слушает. Портвейна очень много. Еду на вокзал, у вагона толпа жаждущих уехать без билета (с билетами, как я уже тут писал, был тогда полный швах), договариваются с проводницей, та хрипит – нет мест, говорят вам – нету. Один из домогающихся тычет пальцем в меня: А вот и есть место, его же нельзя сажать, он у вас из вагона выпадет. Проводница, у которой до этого явно были определенные сомнения на мой счет – пускать в вагон, не пускать, возмущена таким неприкрытым желанием въехать в рай на чужом горбу, я в вагоне.
Посиделки у Коли Зейна в Тушино. Токарев на магнитофоне – «Небоскребы, небоскребы, а я маленький такой». Идем купаться на Москва-реку. Плыть существенно легче, чем идти. Возвращаемся обратно – квартира немного горит (забыли вытащить из розетки кипятильник). Тушим. Засыпаем. Утром мы с Сашей встаем очень рано и едем на дачу. Работать.
Каждый год в феврале мы ездили на зимние школы Курчатовского института под Протвино (вообще-то, они проходили на базе отдыха «Курчатовец», а ближайший населенный пункт был деревня Кременки). Один год школа была ядерная (плюс пара докладов по твердому телу), и главным организатором был Спартак, другой год – твердотельная (плюс пара докладов по ядру), и главным организатором был Каган. Уровень докладчиков был очень высокий (там я слушал Ларкина, Андреева, из более молодых – Линде, Диму Хмельницкого, Борю Альтшулера…). Должен сказать, что самые великие докладчики как раз как докладчики производили не самое сильное впечатление. Мы больше любили ядерные года – публика была по-человечески более симпатичная. Многие замечательно играли на гитаре и пели. Обычно все это происходило в большой компании до пяти утра, выпивалось, естественно, соответствующее количество вина и водки. В эпоху сухого закона (когда действительно следили, чтоб не нарушать) традиция разрушилась. Как заметил Саша, «И кому же в ум взойдет на желудок петь голодный». Саша постоянно требовал «Шлагбаум» («Иль мне в лоб шлагбаум влепит…») и «Медведя» («Бродит грустный медведь…» – его пристрастие к этой песне я никогда не понимал). Разговаривали. Один из участников, наш приятель, незадолго до этого побывал в Дании и пересказывал, почти по анекдоту, чуждые нам фильмы, в основном, впрочем, вполне невинные – ужасы, фантастику… Помню совершенно замечательный, в его исполнении, сюжет “The Thing”. Потом, через много лет, посмотрел собственно фильм и жестоко разочаровался.
Естественно, много катались на лыжах. Запомнилась очень типичная для Саши… нет, пожалуй, шуткой это все же не назовешь… В общем, лыжня из леса вдруг выходит на открытое место, высокий обрыв над замерзшей рекой. Я говорю – красиво! Саша: а представляешь, на том берегу пулемет бы поставили… Моим-то ладно, а вот твоим убыток: сразу два свитера испорчено (его свитер не успел высохнуть с прошлого катания, и я ему дал мой запасной).
На школе в феврале 1987 года случился, пожалуй, максимальный всплеск нашей творческой активности. Возникла идея посмотреть на плавление (наш Святой Грааль – ни одну задачу нам не хотелось решить так сильно, как механизм плавления и объяснение критерия Линдемана) с точки зрения устойчивости кристалла как динамической системы. Подъем был невероятный, казалось, вот-вот, и прорвемся.
Не то, чтобы совсем ничего из этого потом не вышло. Вышло по Ларкину: «Как всегда – хотели эликсир бессмертия, получилось средство для мытья полов. Но тоже не надо выбрасывать, тоже пригодится». Но такого внутреннего состояния у меня потом больше никогда не было.
<…>
Саша был совсем немножко еврей. Из-за этого, как он неоднократно говорил, он не стал поступать на мехмат МГУ. Я как-то сказал – ничего не понимаю, ты даже по нюрнбергским расовым законам вполне себе ариец, на что он ответил – там тебе не Нюрнберг, там до двенадцатого колена все вынюхивают. Не уверен, что это нужно понимать буквально – полагаю, при вынюхивании до двенадцатого колена евреями окажутся все, а кто-то же тогда на мехмате учился. Репутация антисемита для него означала несмываемое клеймо на человеке и невозможность поддерживать общение. Правда, он всегда говорил, что тут нужно ни в коем случае не верить слухам, а опираться обязательно и на свой собственный опыт общения – обвинения в антисемитизме были ходовым оружием в академической среде тех лет. Не говоря об обратных обвинениях, разумеется.
Точкой отсчета во всех Сашиных суждениях была война. Вторая мировая, разумеется, она же Великая Отечественная. Саша считал, что война была выиграна чудом, все висело на волоске и, в общем, оправдывал жестокие сталинские меры во время войны, например, выселение немцев Поволжья (при том, что сталинистом в целом он, безусловно, не был). Про «репрессии» мы с ним говорили очень часто, и про Шубина, и про мои семейные хроники – с полным взаимопониманием. Его отношение было такое – а чего еще можно было ожидать после кошмарной волны насилия в революцию и гражданскую войну? Страну приучили к крови. Но и революция была для него естественным результатом тупости и жестокости прежней власти. Вообще, в основе его отношения к историческим событиям и деятелям лежала, видимо, глубокая мизантропия. Он постоянно говорил о склонности «простого человека» к жадности, жестокости и предательству. Например, при обсуждении сталинского террора подчеркивал, что, в основном, ученые убивали ученых, писатели писателей, художники художников – разумеется, руками НКВД.
Помню, мы как-то пошли с ним, уже в конце «перестройки», в ДК Курчатовского института на встречу «Мемориала» – туда был приглашен С.В., рассказать о Шубине. Там же я в первый и последний раз видел Л.К.Чуковскую, она говорила о своем погибшем муже, Бронштейне, другом замечательном физике того поколения. Все это действовало очень сильно. Потом на трибуну вылезла какая-то дама и завела речь о компенсациях семьям погибших, причем (об этом можно ведь говорить очень по-разному) с какими-то совершенно жлобскими интонациями.
Из «Покаяния», которое мы смотрели вместе (я его смотрел несколько раз; сейчас этот фильм, кажется, совершенно забыт, а я вот до сих помню чуть не каждый кадр), Саша выделил жалобу какой-то мелкой сволочи – вон, такой-то пару врагов народа разоблачил, так ему сразу новую квартиру, а я целую машину врагов народа привез, и ничего.
Отношение Саши к советской власти было следствием его общей мизантропии. При Андропове он был совершенно уверен, что взят курс на близкую ядерную войну, и что она практически неизбежна. Кстати, Рейган (когда он приехал в Советский Союз, и мы смотрели по телевизору его выступление, кажется, в МГУ) ему понравился. Во всяком случае, куда больше, чем Горбачев.
Хоть это напрямую к Саше не относится, но нужно рассказать. Мы как раз вернулись с очередной Курчатовской школы (в тот единственный раз я ездил туда с Мариной), Марина стала звонить с уличного телефона подружке и узнала, что только что умер Андропов. Потом мы ехали в битком набитом автобусе, все мрачно молчали, и вдруг какой-то мужик громко сказал, на весь автобус: «А хрен его знает, может, и к лучшему». Никто не прореагировал.
Я уже точно не помню, в каком году «ускорение» превратилось в «перестройку». Кажется, антиалкогольная кампания была еще «ускорением». Я, в общем, сначала даже отнесся к ней с некоторым пониманием, хотя, конечно, безумные очереди в винных отделах раздражали. Мой друг однажды рассказал о своем знакомом, который работал «парашютистом». Парашютиста (за плату, разумеется, бутылками и деньгами) раскачивали и перебрасывали через очередь поближе к прилавку, где он внаглую брал спиртное и дальше выбирался как мог. Знакомый погиб – когда он пролетал над толпой, ему сунули снизу нож в бок.
К тому же, на идеологическом уровне борьба за трезвость как-то с самого начала приобрела специфический оттенок – разговоры о евреях, спаивавших русский народ, и т.п. Потом борьба за трезвость пошла на убыль, а сопутствующие разговоры наоборот. В Свердловске периодически поднимались слухи о готовящихся погромах, назывались точные даты. Не могу сказать, что удовольствие читать «Белые одежды» и «Детей Арбата» вполне компенсировало все эти беспокойства. Однажды я сказал Саше, что по уши благодарен советской власти за то, что она уже прекратила сама устраивать погромы, и еще не разрешала делать это частным лицам.
Другое новшество, повергшее нас в некоторый трепет – это когда трудовые коллективы стали выбирать директоров. Казалось очевидным (в рамках нашей общей мизантропической позиции, у Саши посильнее, у меня послабее), что наверху окажутся люди с ликами не отмеченными печатью мудрости и благочестия, и так оно, в общем, как правило, и происходило. Слово за слово, раскочегарилась «борьба с привилегиями». В столовой Курчатника (прекрасная была столовая, работавшая даже в выходные, огромное здание, красный гранит, великолепная еда за копейки, спецпитание для изнуренных профессиональными вредностями) по требованию демократической общественности закрыли специальный директорский зал. Все были довольны – справедливость восторжествовала, а дирекция стала ездить обедать за счет института в ресторан «Загородный».
Несмотря на все перечисленное, мы с Сашей относились тогда к Горбачеву вполне положительно, потому что перестали ждать ядерной войны со дня на день. К тому же, стали создаваться «молодежные научно-технические кооперативы» и прочие места, где можно было подзаработать. Мы участвовали в одной такой группе, занимавшейся высокотемпературной сверхпроводимостью. За тощими коровами пришли (как оказалось, ненадолго) тучные, вернулась на прилавки выпивка, да еще и появились деньги на оную.
Я начал ездить за границу. До «перестройки» я уже смирился с мыслью, что мироздание за пределами Бреста не вполне существует, а тут вдруг в 1988 году попал, в составе огромной академической делегации на Международную конференцию по магнетизму в Париж. Часть делегации очевидно предпочла бы пострелять из пистолета Дзержинского, чем поиграть на скрипке Страдивари, но попадались и физики, включая С.В. и даже великого Полякова. Потом была уже советская конференция по магнетизму в Калинине, где мой доклад был первым, и его пришел послушать первый секретарь обкома партии, героически отсидел сорок минут и почти не храпел. На приеме для участников в обкоме давали черную икру, а в магазинах можно было купить только кефир и плавленый сырок, причем он оказался совершенно заплесневевшим. В 1989 году мы вместе с Сашей съездили на конференцию в Санта Фе. Для Саши это оказалась последняя поездка за границу (до этого он несколько раз был в Дрездене на каких-то советско-гдровских сборищах по физике твердого тела). В 1990 году я поехал на месяц в Штутгарт, в Институт Макса Планка. Там тогда работал Лихт. Нам было очень трудно – я не понимал абсолютно его проблемы (те, кто пробовал начинать на западе с постдоков, знают, о чем речь, но я-то не знал), он – мои (нас в СССР тогда уже прекратило колбасить и стало понемногу плющить).
Когда я вернулся, в Шереметьево меня встречал Саша. Одновременно со мной, из Барселоны прилетел Ельцин – тогда суперстар почище Джизус Крайста из одноименной рок-оперы. Его встречала обезумевшая толпа, в основном перевозбужденные женщины среднего возраста, скандировали «Ель-цин! Ель-цин!», слюна капала из оскаленных пастей, он с усталой и доброй улыбкой помахивал рукой в ответ…
Тут мы с Сашей политически помирились. До этого какое-то время я был ельцинистом, даже чего-то подписывал в его защиту. Дело в том, что С.В., как глава Уральского Научного Центра, конечно, прекрасно знал Ельцина, как секретаря обкома. По слухам, они не ладили (тем не менее, я несколько раз видел Ельцина на днях рождения у С.В.). Когда Ельцин впал в немилость (эх, разве так сейчас впадают), С.В. демонстративно повесил на стене своего кабинета фотографию – они в обнимку с Ельциным, тот ему чего-то вручает – и на меня такие вещи, конечно, действовали. Саша не переносил его с самого начала, что вносило некоторую напряженность в наши отношения (тогда к политике относились серьезно, потому что казалась вполне реальной перспектива гражданской войны, и не хотелось бы оказаться по разные стороны линии фронта с близким другом). А тут – эстетика сильнее этики – разногласия сразу исчезли.
Впрочем, нам обоим было очевидно, что Ельцин сметет Горбачева и придет к власти. Помню, как мы это обсуждали, посмотрев вместе (в том же ДК Курчатовского института) «Убить дракона».
Сразу после путча, в конце августа 1991 года, мы с Сашей поехали, можно сказать, по путчевским местам – была конференция в Кацивели (это очень близко от Фороса), на базе отдыха Украинской академии наук. Это, видимо, самое красивое место в Крыму. Говорят, резиденцию Горбачева построили не там, а в Форосе, по единственной причине – горы слишком близко подходят к морю, недостаточно места для аэродрома. Пожалуй, последняя наша с Сашей совершенно безмятежная встреча. Похаживали на конференцию, пили местную мадеру, закусывая местными же мочеными яблоками, много плавали. Строго говоря, много плавал я. Саша плавал гораздо лучше (в свое время занимался плаваньем серьезно, а также классической борьбой, ну, про туризм я рассказывал), но демонстрировал свой класс крайне редко, все больше валялся на камушках. Если мы и обсуждали недавние события (не могли, казалось бы, не обсуждать, оба тогда остро интересовались политикой), то я об этом совершенно не помню. Скорее всего, у обоих было ощущение какой-то мутной и грязной истории, которая никогда не прояснится, ну и хрен с ней. Путчисты вызывали только презрение, но и рожа победителя, мягко говоря, не внушала особого доверия. В этом мы были, видимо, с Сашей тогда едины. Между прочим, тут уместно рассказать, как мы с Валей Ирхиным сидели в институте (в Свердловске) в третий, завершающий день путча, и обсуждали ренормгруппу для решеток Кондо. Пришел мой молодой сотрудник, очень возбужденный, и сказал, что все сейчас пойдут на площадь, на митинг в поддержку Ельцина. Валя меланхолично ответил, что это зависит от варны – кшатрии и вайшьи пойдут на митинг, а брахманы продолжат выполнение своих духовных обязанностей.
В Кацивели мы познакомились с Юрой Копаевым из ФИАНа, которого только что выбрали тогда членкором. Он рассказал, как сначала обрадовалась его жена – они получили право пользоваться академическим распределителем (в магазинах тогда было пустоватенько, даже в Москве). Оказалось, однако, что под видом мяса там выдают жир с костями. Копаев объяснял, что на сей счет было специальное распоряжение тогдашнего мэра Москвы, доктора экономических наук, которого незадолго до этого прокатили на выборах в академию. Но в основном мы говорили о квантовых точках – начале нынешней нанонауки. Мы с Сашей, должен с сожалением признать, не оценили тогда эту область по достоинству. Нас куда больше занимали естественные наночастицы в металлических сплавах, а удобной системой для сравнения казались атомные ядра.
В конце 1991 года я поехал на полтора месяца в Импириал Колледж, в Лондон (не считая нескольких дней, проведенных в Кембридже, в Кавендишевской лаборатории). Это время вспоминается как последнее светлое пятно перед долгим периодом почти полной беспросветности. На поездку был грант Королевского общества, без всяких конкретных обязательств (все же, мы с Дэвидом Эдвардсом потом опубликовали одну небольшую статью), я очень много гулял, обошел, наверно, весь Лондон. С тех пор он так и остался одним из моих самых любимых городов. Кстати, именно в Лондонском зоопарке тогда я впервые увидел гигантскую панду. В Национальной галерее была выставка картин из личной коллекции королевы. На Пикадилли была выставка Хокусаи. Да мало ли в Лондоне интересного. Я снимал комнату у другого физика из Импириал, Ника Ривьера. Во время совместных чаепитий, я на слух узнал от него захватывающие вещи, о применении геометрии и топологии в теории стекол.
Ребята из Сектора в Курчатнике тогда начали активно ездить в Германию. Слушая их рассказы, Саша пришел к мудрому совету, который он мне и дал перед поездкой. Самое главное, говорил Саша, не воспринимай поездки как способ заработать, и не переводи постоянно фунты в рубли – люди на этом свихиваются. Увидел что-нибудь вкусное – тут же купил и съел. Потом неоднократно у меня были случаи оценить всю глубину этих рекомендаций. Ну в самом деле, захожу в кафетерий в Сент-Джеймс парке, а там – пирожные. Много. Разные. Я ничего похожего в жизни не видел до этого. Решил, что, если сейчас начну экономить, потом начнет грызть червь сомнения – а то ли я попробовал… Так и буду жрать одно дешевое пирожное за другим. Купил сразу самое привлекательное на вид и самое дорогое (три с половиной фунта, кажется), съел, испытал чувство глубокого удовлетворения и больше уже пирожных вообще не покупал. Но в чем другом, помня Сашины советы, себе, в разумных пределах, не отказывал.
А тут Ник уехал на неделю в Швейцарию, и я остался в доме за хозяина. Должен был приехать еще один визитер из России, из ФИАНа, мне велено было принять его и помочь освоиться. Это была ходячая иллюстрация к Сашиным предостережениям. Походивши по магазинам и подсчитав все очень аккуратно, он, в конце концов, купил курицу, сварил и понемногу ей питался. А когда я, как радушный хозяин, стал угощать его вином, он (когда вино закончилось), размякнув, сказал: Эх, хорошо сидим… Надо бы еще водки выпить. И, главное, есть у меня водка-то. Но – нельзя, она у меня на Кембридж отложена, в подарок нужному человеку.
Я спросил Сашу перед поездкой, что ему привезти из Лондона. Он попросил бутылку виски «Белая лошадь». В советских фильмах из аглицкой жизни все пили «Белую лошадь», ну, вот, как-то… Оказалось, такого виски, практически, нет. Искал я его везде, искал… Потом все-таки купил, уже перед самым отъездом. Так себе виски, надо сказать, но нам тогда было не с чем сравнивать. Мы его выпили сразу по прилету (Саша опять встречал меня в Шереметьево; столкнулся там со Спартаком, тот спросил Сашу, что он тут делает, Саша ответил – встречаю Мишу, Спартак спросил – а откуда Миша прилетает, Саша зачем-то ответил – из Норильска, Спартак ухмыльнулся и пошел себе дальше). Освободились от белой лошади где-то в шесть утра, я лег спать, а Саша еще часок посидел на кухне, покурил и поехал к первой паре в Долгопрудный – он тогда читал лекции в МФТИ.

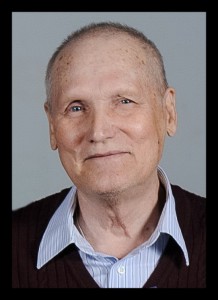


 Синицын Евгений Валентинович,
Синицын Евгений Валентинович,




